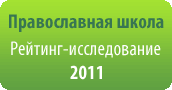| Митрополит Антоний Сурожский. Психология и духовный опыт[1]  Я не знаю, будет ли вам вообще интересно мое сообщение, потому что мне не вполне ясно, какая публика здесь собралась. Насколько я могу судить, вы не являетесь, так сказать, однородной массой, здесь собрались люди с разными убеждениями и наклонностями, так что, выступая перед вами, я иду на определенный риск. Несколько лет тому назад я как ведущий молодежной группы пригласил к нам на встречу секретаря Гуманистического общества. Он провел беседу (на мой взгляд, не совсем убедительную) на тему о том, что образованный и здравомыслящий человек не может быть верующим. Один из наших юношей, которому, полагаю, не хватило такта, спросил его в конце, что он думает обо мне: я необразован или, может быть, моя психика не в порядке? Узнав, что я имею медицинское образование, докладчик не решился настаивать на моей полной невежественности в научных вопросах и заключил: «Речь, несомненно, идет о психике». И сегодня я представляю вам себя именно как особый клинический случай. Я не буду пытаться что-либо доказывать, я только предложу вам кое-что рассмотреть. Я не знаю, будет ли вам вообще интересно мое сообщение, потому что мне не вполне ясно, какая публика здесь собралась. Насколько я могу судить, вы не являетесь, так сказать, однородной массой, здесь собрались люди с разными убеждениями и наклонностями, так что, выступая перед вами, я иду на определенный риск. Несколько лет тому назад я как ведущий молодежной группы пригласил к нам на встречу секретаря Гуманистического общества. Он провел беседу (на мой взгляд, не совсем убедительную) на тему о том, что образованный и здравомыслящий человек не может быть верующим. Один из наших юношей, которому, полагаю, не хватило такта, спросил его в конце, что он думает обо мне: я необразован или, может быть, моя психика не в порядке? Узнав, что я имею медицинское образование, докладчик не решился настаивать на моей полной невежественности в научных вопросах и заключил: «Речь, несомненно, идет о психике». И сегодня я представляю вам себя именно как особый клинический случай. Я не буду пытаться что-либо доказывать, я только предложу вам кое-что рассмотреть.
Первое, о чем я хотел бы сказать, состоит в следующем. Когда мы говорим о предметах духовных, о вере в Бога, мы, конечно, тут же думаем о религии. Действительно, если речь идет о Боге, то совершенно естественно появляется мысль о религии. Но вера как феномен имеет отношение не только к Богу или области божественной. В 11-ой главе Послания к евреям мы находим очень интересное определение веры: вера есть уверенность в невидимом (Евр 11:1). При этом под «невидимым» автор явно не имеет в виду то, что просто не видимо глазами, он говорит о том, что неуловимо, что находится вне области наших чувств. Если принять такое определение веры, то мы будем вынуждены признать, что оно покрывает собой очень широкий спектр явлений. Есть целый ряд очевидных для нас вещей, целый ряд предметов, существование которых не требует опоры в наших ощущениях. Мне сразу приходят в голову две такие вещи — чувство прекрасного и любовь. Когда мы восклицаем: «Как это прекрасно!», то имеем в виду нашу внутреннюю реакцию на то, что предстало перед нами. И что интересно: это чувство прекрасного универсально, оно, вероятно, одно из самых универсальных явлений, хотя сам объект, который его вызывает и на который мы реагируем таким образом, может быть крайне разнообразным. В различные эпохи одни и те же творения могут восприниматься как прекрасные или совсем наоборот. Например, то, что теперь называется «готическим искусством», Рафаэль мог именовать так же, но вкладывать в это совсем другой смысл — искусство, достойное готов, то есть варваров. В наши дни люди ценят самые разнообразные формы прекрасного, которые часто несовместимы одна с другой, однако само чувство присуще всем. Это и есть акт веры в том значении, в котором употреблял это слово апостол Павел. Это уверенность, основанная не только на сенсорной реакции. Мы видим нечто и отзываемся, мы не взвешиваем при этом все «за» и «против», прежде чем назвать предмет или лицо красивым. Более того, временами мы можем очень сильно расходиться во мнениях друг с другом. Один молодой человек, впрочем, не такой уж и молодой, учитывая, что у него двенадцать детей, как-то сказал мне: «Вы когда-нибудь видели человека красивее, чем моя жена?». Это заставило меня вспомнить одну персидскую притчу. Жил некогда великий поэт по имени Меджнун, который писал стихи о своей возлюбленной Лейле. И стихи эти обладали такой силой убеждения, что увидеть прекрасную Лейлу захотел персидский шах. Он позвал к себе Меджнуна и Лейлу и приказал ей открыть лицо. Далее в притче идет описание ее внешности и говорится: нос у нее был как у орла, губы — как у верблюда, глаза такие-то, уши сякие-то, в общем, нечто безобразное. Шах с негодованием посмотрел на Меджнуна и сказал: «Ты обманул нас, ты говорил, что она прекрасна, а она — само уродство». На что Меджнун ответил: «Нет, это не обман, но чтобы увидеть Лейлу прекрасной, надо иметь глаза Меджнуна». Я думаю, в этом есть нечто. Это не просто иллюстрация к тому, что я пытался донести до вас. Чувство прекрасного не определяется тем, что можно описать с помощью цвета, линии, пропорций или форм. Это что-то другое. И то же самое, мне кажется, относится и к любви. Как объяснить, почему мы выбираем этого человека, а не того? Я не говорю о любви «ко всем», которая очень часто есть иллюзия, так как любить всех легче, чем любить того или другого конкретного человека. Мне вспоминаются слова пожилого священника: «Отец Антоний, — сказал он, — я заметил, что человек, который любит меня, подписывает свое письмо: „С любовью, такой-то“, а тот, кто не любит: „С любовью во Христе“». После чего я получил от него письмо, которое оканчивалось словами: «С должным уважением к Вашему сану». Так я узнал свое место. Итак, почему мы реагируем на данного человека тем или иным образом? Ни черты лица, ни голос, ни что-либо осязаемое не имеют для нас особого значения. Очень часто сквозь то, что мы видим, или невзирая на то, что мы видим, наши чувства улавливают нечто особенное в человеке. Так что для меня вера в Бога — не нечто странное, неестественное, а часть человеческого опыта. Причем человеческого опыта, который касается не только Бога, а вообще свидетельствует об особенностях нашего восприятия. Несомненный факт: красота человека, которого я люблю, не может быть доказана. Примеры тому — и Лейла Меджнуна, и жена моего знакомого. Это не сопоставление всех «за» и «против», а непосредственная убежденность, которая временами может показаться странной, абсурдной, недопустимой. Вот почему я бы не стал отстаивать свою веру в Бога, я попросту исповедую факт своей веры, и для меня тут нет никаких сомнений. Я знаю, что это не очень по-английски, но я не англичанин, поэтому просто перейду к личному опыту и коротко скажу, почему я верующий. Есть современный французский писатель, который был атеистом и пережил то, что на языке Евангелия называется «обращением». Он написал книгу «Бог существует, я Его встретил». Это же мог бы сказать и я. Я немного проиллюстрирую свои слова, а вы исходя из этого будете решать, психика ли у меня не в порядке или я полный невежда. Я родился незадолго до Первой мировой войны, и мое детство прошло на фоне этой войны, русской революции и затем эмиграции. Все это означает, что никакого религиозного образования мне никто никогда не имел возможности дать. Мои родители были верующими, но у нас не было дома, я жил при школе, причем абсолютно безбожной, в самом этимологически прямом значении этого слова: Бог никак не был включен в жизнь школы, а то немногое, что я знал о религии, не могло по-настоящему приблизить меня к Нему. Со мной было три случая, о которых мне хочется упомянуть сейчас в нашем разговоре. В начальной школе я учился в Австрии, и на первой неделе занятий настал урок Закона Божия. Мои родители записали меня как Orthodoxe, не подозревая, что в немецкоязычных странах это значит «ортодоксальный иудей». Православный христианин там называется «греко-православный». И меня отправили к раввину. Он взглянул на меня и спросил: «Почему ты без шапочки?». А я простодушно, мне было всего семь лет от роду, ответил: «Моя мама говорит, что нельзя в помещении покрывать голову, потому что там может быть распятие или икона». Он воскликнул: «Так ты маленький христианин?». Я сказал: «Да». «Вон отсюда!», — велел он, и я вылетел в коридор. Я был очень доволен, но мое счастье длилось недолго. Меня поймала директриса, сказала: «Ах, ты христианин! Я сейчас отведу тебя к католическому священнику». Я там уселся, священник стал спрашивать меня, кто я, что я, и когда выяснил, что я русский, православный, вскричал: «Маленький еретик в моем классе! Вон отсюда!». Так закончилось мое религиозное образование. Родители совершили что-то вроде слабой попытки дать мне представление или какое-то впечатление о религии, взяв меня разок-другой в церковь в Страстную пятницу. И тут я сделал открытие, которое показывает, насколько я был далек от всякой мистики. Я обнаружил, что, стоит мне переступить порог церкви и глубоко вдохнуть воздух, напоенный ладаном, я прямо на месте падаю в обморок, и меня увозят домой. Таким образом, и эта последняя попытка приблизить меня к религиозной реальности привела к тому, что я от этой реальности сбежал. Соответственно, в подростковом возрасте я ничего не знал о Боге. Он просто не существовал в моем опыте. У меня и без этого было полно проблем — как не быть избитым, где поспать, что поесть, мне было недосуг беспокоиться о чем-то еще. Вы, наверное, не представляете себе, что значит для подростка не иметь ни дома, ни безопасности, ни обеда, ни защиты. Для меня это имело очень большое значение. Жизнь была суровой борьбой, и главной была непосредственная задача — так или иначе выжить. Но затем наступил момент, когда распахнулись «райские двери»: мои мама и бабушка нашли небольшую квартирку в пригороде Парижа. Вы не представляете, что это было! Появилось первое в моей жизни место, где я имел право быть, куда я мог прийти и находиться. Там меня ждали, мне были рады. Там была дверь, была крыша над головой, и была любовь. Так должен выглядеть абсолютный рай, но, вероятно, уже тогда у меня проявились признаки психического расстройства, потому что после нескольких месяцев действительно невероятного счастья я обнаружил, что не могу выносить счастье, если в жизни нет содержания, нет цели, если жить — все равно что лакать сливки до скончания века. Меня привело в ужас бесцельное, пустое счастье. Вы можете истолковать это различным образом: сказать, например, что у меня действительно было неладно с психикой, или что это был метафизический кризис. Но что бы вы ни сказали, дело обстояло именно так. И поскольку я был мальчиком с очень конкретным мышлением, то я решил дать себе год, чтобы ответить на вопрос, имеет ли жизнь вообще какой-нибудь смысл, а если нет, то покончить с собой. За это время я действительно совершал некоторые попытки такого рода, например переходил парижские улицы с закрытыми глазами, надеясь, что меня задавят. Меня осыпали бранью и прогоняли, но так и не задавили ни такси, ни другие машины. Так продолжалось до момента, когда, незадолго до Пасхи, наш молодежный руководитель отозвал меня (а я играл в волейбол, что было тогда страстью моей жизни) и сказал: «Пойдем, мы пригласили священника провести с вами, мальчиками, беседу». Я возмутился: «Ни за что! Я не верю в священников, не верю в Церковь, не верю в Бога, погода хорошая, и все!». Руководитель был человек умный, он не стал говорить мне, что беседа будет полезна для моей души, — я бы ответил, что души у меня нет и пользы ей быть не может. Он сказал: «Ты только представь, что священник разнесет по Парижу, если никто из вас не придет на его беседу. Ты не можешь нас так подвести. Я же не прошу слушать — ты только пойди и сядь». Я подумал, что лояльность к моей группе этого требует, и пошел, сел в углу, и беседа началась. Я был намерен не слушать, но к сожалению, священник говорил слишком громко, а то, что он говорил (позднее я обнаружил, что то был один из самых великих людей в русском православии), возмутило меня. У него явно не было никакого опыта с детьми. Он говорил о Евангелии, о евангельской любви, о том, что мы призваны быть кроткими и смиренными, и терпеливыми — все добродетели, которые подросток четырнадцати лет никак не ценит. Нас учили воинскому строю, воспитывали в воинском духе, а вовсе не в том, что Ницше назвал «религией рабов». Я прямо кипел возмущением, и по окончании беседы помчался домой, спросил у мамы, есть ли у нее Евангелие, получил его. И поскольку я слышал от докладчика, что Евангелий четыре, я сделал вывод, что одно из них короче других, и раз читать его — пустая трата времени, то взялся за самое короткое. И попал на Евангелие от Марка, которое резкое, ясное, живое и было написано в свое время под руководством апостола Петра для римского хулиганского молодняка. И тут случилось — и это следующий этап моего умопомешательства, — что пока я читал Евангелие, между первой и третьей главой мне вдруг стало абсолютно очевидно, что Христос, в Кого я не верю, стоит по другую сторону стола, за которым я сижу. Я поднял взор, я ничего не видел, ничего не обонял, ничего не слышал, не было никаких чувственных ощущений, но уверенность была такая ясная, такая неколебимая, что я откинулся на стуле и произнес: «Так вот оно что». И эта уверенность не оставила меня в последующие десятилетия, она и сейчас со мной, как была в том далеком подростковом возрасте. Это ничего не доказывает, потому что невозможно передать другому собственный опыт. Личное переживание одного человека ничего не доказывает тому, кто не испытал подобного. Я просто рассказываю вам о случившемся, чтобы объяснить, почему я верю в Бога и почему вера для меня — уверенность в невидимом, где ударение на «уверенность». Все это реально для меня не вследствие того, что меня так научили в детстве или позднее задурили мозги. Затем мне пришлось все это осмысливать, потому что, как вы сами знаете, непосредственный опыт для вас истинен, но вокруг этого опыта многое наслаивается, что должно быть осмыслено, продумано, что требуется проанализировать, обсудить, принять или отвергнуть. Невозможно читать Евангелие и не задумываться, не ставить себе вопросы, не ставить Богу вопросы, не стараться узнать от других людей, что то или другое сказанное в Евангелии значит для них, как они это понимают. Так что я читал дальше, ставил себе вопросы, отвечал на них удовлетворительно или нет, слушал других людей и собирал все это. И когда позже я был в медицинской школе, когда я оказался на полтора года студентом в Salpêtrière, а затем в Университетской психиатрической клинике, я ставил себе совершенно конкретные вопросы о том, каково место моих психологических реакций на то, что я считал объективным фактом: мою встречу со Христом, в которой я был абсолютно уверен, как если бы я встретил лицом к лицу человека. И тогда мне постепенно стало ясно, что любой опыт, который мы называем духовным, мы воспринимаем и в своей психике, потому что если он не дойдет до сознания или не станет осознанным переживанием, которое мы можем контролировать, он как бы не существует для нас, он проходит сквозь нас бесследно. Так что мне ясно представилось, что любое духовное переживание становится субъективно реальным только тогда, когда достигает области нашей психики, психологии. Означает ли это, что затронута бывает только область психики? В этом был весь вопрос: существует ли мой опыт помимо, так сказать, некоего «наития»? Я проверял это всеми доступными мне способами. Я читал, моими учителями были заслуженные психологи и психиатры; скажем, Пьер Жанэ — мимо этого имени не пройдешь, от него я узнал все, что знаю (хотя, может быть, не все усвоил) о Фрейде и всем подходе по этой линии. И я пришел к выводу, что духовный опыт достигает нас и становится реальным для нас в пределах нашего сознания, нашего ума и порой каким-то образом достигает и нашего физического существа. Но при всем этом я не считал тогда и теперь не считаю, будто духовный опыт можно свести к психологической буре или что психологическую бурю можно свести к чистой физиологии. Помнится, французский физиолог и врач Кабанис утверждал, что мозг вырабатывает мысли точно так же, как печень вырабатывает желчь. Но позднее наука доказала, что здесь иной процесс, все гораздо более тонко, сложно. И я уверен, что можно быть верующим человеком, не отказываясь от рассудительного и вдумчивого подхода и к собственному опыту, и к свидетельству других людей. Также я считаю, что очень важно относиться к собственным переживанием критически, не воспринимать легковерно все подряд потому лишь, что это случилось с нами. И вместе с тем важно не отвергать что-либо потому только, что оно не поддается реконструкции, рациональному истолкованию: нечто может быть разумным, хотя и не рациональным. Мне кажется, к этому приводит вся психологическая деятельность: результаты не строятся просто как логические выводы, все гораздо более сложно. Дальше я подошел к вопросу сомнения. Что такое сомнение? Следует ли бояться сомнения? Мой отец приучил меня смотреть тому, что встречается, прямо в лицо, встречать все без страха. Он считал: то, что подлинно, выдержит любое исследование и критическое обсуждение. Если же встреченное просто развеется, как дым, то чем скорее это произойдет, тем лучше. Поэтому я старался осмыслить все, что происходило со мной, скажем так, в порядке духовного опыта. И очень важное место в этом принадлежит сомнению. Так часто верующий, встречаясь с сомнением, теряется, пугается, как будто сомнение может разрушить или уничтожить самую реальность того, в чем он убежден, что составляет суть его жизни. Мне очень помогло оценить важность вопрошания то, что я занимался научной работой под руководством одного из Кюри, затем в медицинской школе. Ведь для ученого важно не то, чего он достиг, что открыл сегодня, — ему важно то, что на самом деле есть, что бы он ни думал. Ученый начинает с того, что собирает факты, строит из них модель, теорию, гипотезу. Но если он честный ученый, то, построив ее, первым делом он начинает ставить вопрос: где изъян? Потому что идти дальше можно только тогда, когда обнаружено слабое место конструкции или новый факт, который не вписывается в построенную модель. И тогда я обнаружил, что точно так же можно относиться к вере: каждый раз, как вы подходите к более полному ви{'}дению — а это непременно должно произойти, если вы хотите охватить свой опыт умственно и эмоционально, — вы должны поставить себе вопрос: в чем мое представление недостаточно, какие данные чужого опыта могут сокрушить, разрушить мою модель? И затем радоваться: моя модель разбита, потому что мое представление о Боге, о духовной жизни, о человеке было недостаточно, реальность намного превосходит мое прежнее представление. И это, я думаю, лежит на грани психологии и духовности, потому что это действие производится умственно или, если предпочитаете, психологически, включая опыт, который приносит сердце, приносит ум, опыт, который приходит к нам от окружающего мира. Но цель — обнаружить с наибольшей полнотой то, что есть на самом деле, реальность. И мне кажется, что в наши дни невозможно игнорировать никакой человеческий опыт, так же как нельзя игнорировать неосязаемый мир, в котором мы живем. Мы не воспринимаем непосредственно волны, никто из нас не переживает непосредственно то, чему нас учит физика, например о природе света. Есть целый мир неосязаемого: никто не видел атом, исследование идет на уровне дедукции, современная математика вся строится умозрительно. Поэтому я считаю, что честность ума — неважно, большого или малого, важна полная его честность — должна присутствовать там, где речь идет о вещах духовных, как она присутствует в других областях, но при этом не стоит обманываться, будто непременно придешь к окончательному выводу. Потому что окончательный вывод, может быть, и придет (хотя я в это не верю), но придет не раньше, чем вы сможете проанализировать, на каком основании вы любите кого-то или почему вы так отзываетесь на нечто прекрасное. Точно так же невозможно до конца проанализировать тот опыт, который некоторые из нас называют духовным опытом. Ответы на вопросыКак вы понимаете, что такое бессознательное и какова его роль в психической жизни человека? Начну с другого. В начале книги Бытия нам говорится, что Бог создал мир, и в тот момент творение представляло собой хаос, и из этого хаоса, в процессе постепенного созревания, возникало все. Можно представить это иначе: Бог вызывал из этого хаоса все, что было способно возникнуть как нечто прекрасное. Мне кажется, бессознательное очень похоже на этот хаос, и если вы стараетесь отсечь хаос, вы можете отсечь и то, что позднее могло бы возникнуть не в уродливой форме, хотя, пока оно в области хаоса, оно, возможно, и уродливо. Это несколько похоже на зародыш во чреве (разумеется, слово «уродство» тут неприменимо): если он появится на свет преждевременно, он еще не то, чем должен был быть, это не ребенок, он нежизнеспособен. Но если дать ему время созреть, вырасти, стать тем, чем до{'}лжно, он рождается способным стать человеком в полном смысле слова. И мне кажется, бессознательное — такая глубина, где присутствует все то, что мы получаем наследственно, что мы невольно воспринимаем от разных влияний — все это оседает там, но еще не готово пробудиться в полной зрелости, не готово к тому, чтобы быть вызвано на поверхность, потому что незрело. Вы знаете, что я не психолог, но я воспринимаю бессознательное именно так: это нечто очень драгоценное, очень значительное. Разумеется, есть опасность отправить обратно в хаос то, что уже оформилось и могло бы жить, уже созрело и могло бы развиваться дальше. Иногда это делается неосознанно, но иногда человек так поступает, потому что его страшит то, что он видит. И следует воспитывать в себе готовность встретить что бы то ни было, вглядеться, стать лицом к лицу, не судить, а оценить, и знать, что все это открылось нам в меру нашей способности понять. Не знаю, ответил ли я хоть сколько-то на ваш вопрос? Вы сказали, что невозможно передать другому свой собственный опыт. Но человеческая культура предполагает накопление и передачу опыта. Как, по вашему мнению, можно решить это противоречие? Я думаю, опыт, в первую очередь — это непосредственное переживание без интеллектуального оформления. Скажем, кто-то влюбился: это событие. Требуется какое-то время, чтобы вглядеться в него, осознать, осмыслить, что происходит — ну, в пределах своего понимания. Но затем, когда вам хочется передать то, что вы поняли, как я уже сказал, вы не можете передать опыт как таковой, но можете передать что-то, что сами узнали благодаря этому опыту, и для этого требуется найти слова или иной способ передачи. Если вы употребляете слова, то значение этих слов ограниченно, смысл их будет понят только теми людьми, которые хоть в какой-то степени разделяют ваш опыт. Недостаточно поискать в словаре подходящее слово. Можно передать переживание посредством музыки или настроением, которое позволит уловить переживание, можно передать его линиями и красками, искусством в любых формах. И на каждом шагу вы проецируете свой опыт в слова, линии, краски или звуки, но все это воспринимается другим человеком и воспринимается не так, как вы это передали, потому что, скажем, слова могут иметь для вас одно значение — и имеют другое значение для другого человека. И я не подразумеваю грубое недопонимание, недоразумение, но более тонкие оттенки, отзвуки. Приведу пример: есть стихотворение Гуго фон Гофманшталя, где он говорит о словах и кончает так: слов много, но когда я произношу слово «печаль», оно доходит до многих окружающих, что-то говорит каждому, потому что каждый сколько-то испытывал печаль... Так что нужно общее опытное основание даже для того, чтобы понимать самые простые слова, или воспринять звуки музыки, или понять то, что передается, но вы, зритель или слушатель, воспримете и поймете по-своему, не так, как он или она. И если вы принадлежите группе людей, которые сколько-то разделяют общий опыт, тогда можно развить общий язык, но он будет иметь смысл только в рамках данной группы людей. Как только вы попробуете предложить его другим, он умирает, становится как бы учением, навязываемым людям, у которых нет ничего общего с ним. Этот язык не родился в их среде. Есть еще один способ передавать опыт: во всех религиях присутствует ритуал. Не знаю, стоит ли мне говорить то, что я собирался сказать, потому что вы знаете об этом гораздо больше, чем я, но я представлю вам, как я это понимаю. В ритуале можно создать символы, которые всем доступны, понятны достаточно, чтобы стать хотя бы дверью или окном, если не самим содержанием. С другой стороны, когда нечто передается людям в состоянии молитвы, то есть в предстоянии перед Богом с открытостью, оно доходит до людей гораздо глубже, чем если бы люди читали то же самое на странице книги. Православное богослужение построено как драма — в том смысле, какой этому слову придавался в Древней Греции: там не было актеров и зрителей, все были вовлечены в драматическую ситуацию, где некоторые участники передавали нечто, но отзывались все. Вот еще возможность. Но если все это верно в рамках определенной общины, это может не быть верным, если попытаться предложить это другим людям. И в этом опасность институализировать вещи, сами по себе гибкие, заставить людей принять определенные взгляды, потому что так их выразили люди лучшие их самих. Знаете, есть замечательное место у одного из древних писателей, Марка Подвижника; он говорит: если даже Бог станет перед тобой и скажет исполнить что-то, на что твое сердце не может отозваться и сказать «Аминь!», — не делай этого, потому что Богу нужен не твой поступок, Ему нужна гармония между тобой и Им… И я думаю, институция может быть оградой для того, что могло бы быть потеряно, так же как библиотека хранит и бережет книги, но библиотека сама по себе или даже печатные книги ни к чему, если их не читают. А невозможно читать с пониманием, если книга никак не созвучна читателю. Ответил ли я на ваш вопрос? Возникало ли когда-нибудь у вас желание обратиться к психотерапевту? Как вы решаете свои проблемы? Мой отец сказал мне несколько вещей, которые важны для меня. Одна — что нет такого положения, из которого честный человек не может выйти с честью, если он не боится за свою шкуру. Второе: в ситуациях не внешних (немецкая оккупация, война, или что-то в этом роде, или даже болезнь), а внутренних: сомнение, страх, смущение, не следует стараться забыть о них, а надо смотреть им в лицо, видеть подлинный их масштаб, стараться по мере возможности решить эту проблему. Если решения нет, отложить: может быть, мы еще недостаточно зрелы для решения в данный момент, но не надо забывать или скрывать проблему. Ее надо держать про запас как важный шаг вперед. Это требует, мне кажется, некоторой интеллектуальной честности, сколько-то мужества, но оно того стоит. В тот момент, когда вы обнаружили, что если так поступать, это дает плоды, вы можете смотреть в лицо проблеме. И это мне кажется очень важным. Очень часто я встречаюсь с тем, что человек боится посмотреть в лицо самому себе или своим проблемам и обращается к кому-то, кто может дать ответ, и таким образом уходит от усилия или от опасности, или от риска сделать это самостоятельно. И мне кажется, это неполезно: в результате люди становятся неспособными справляться с самими собой или с внешними вызовами, будь то интеллектуальными или другими. Должен ли священник специально учиться, чтобы помогать людям? Как вам кажется, какова основная проблема современного человека? Я совершенно уверен, что мы все должны учиться друг у друга: в области веры — из опыта и даже формулировок иных вероисповеданий. Кроме того, верующие должны прислушиваться, по каким причинам другие не верят. И диалог очень важен, лишь бы он не выливался (это не случается при психоанализе, но бывает при отношениях между, скажем, священником и молодым человеком) в зависимость, своего рода интеллектуальную зависимость, которая не дает человеку созреть и достичь свободы. Это одно. Я вижу очень много людей (вы можете сказать: бедные, лучше бы они пошли к психоаналитику, но странным образом множество людей приходят ко мне со своими проблемами). Так вот, очень мало кто из людей верит в себя — не нелепым образом, когда человек говорит: я все могу, я умен, я то, я се, — но мало кто верит, что он имеет высшую ценность и значение. И первое, что приходится говорить очень многим: смотри, ты не веришь в себя, ты не любишь себя — в этом все дело. Вот, у нас был разговор. Неужели и теперь ты не видишь, что я не стал бы терять на него времени, если бы не верил, что в тебе есть что-то, ради чего стоит потратить время и силы и общение. Если я могу верить в тебя, то тем более в тебя верит Бог. И ты должен научиться из этого верить в себя, верить, что в тебе есть нечто, имеющее высшую ценность, нечто драгоценное, значительное. И если ты не научишься любить себя — не глупым образом, не снисходя и потакая всем своим желаниям, а открыв, что в тебе есть нечто великое и ценное, знаешь, как золото или серебро в породе, ты ничего не сможешь сделать. Тебя можно научить вести себя определенным образом, так же как дрессируют собаку или лошадь, но не таково назначение человека, да даже и собаки. Мне кажется, очень важно, чтобы люди учились делиться. Но чтобы делиться, они должны думать, потому что когда человек приходит и говорит: «Можете ли помочь мне?», — и я спрашиваю: «В чем именно?», и слышу в ответ: «Сам не знаю!», — это не очень-то облегчает задачу ни мне, ни ему. Разумеется, из этого положения можно выйти, но следует учить людей не заниматься самоанализом, потому что самоанализ невозможен, нельзя быть одновременно субъектом и объектом. Но надо учить людей быть честными с самими собой, уметь сказать: «Вот как я себя вижу». И быть готовым услышать в ответ: «Ничего-то ты не понимаешь. Ты считаешь себя гением, а ты дурачок; а может быть, ты много лучше того, чем себя видишь». Мне кажется, разница между психоаналитиком, консультантом, священником и т. д. не принципиальна — с той оговоркой, что очень часто священник является необученным советчиком, который сам не знает, куда идет и куда ведет другого, психоаналитик или подготовленный консультант по крайней мере хоть что-то знает. Вот почему, скажем, при подготовке священников здесь я уделяю много времени тому, чтобы научить их думать и слушать и понимать. И когда они спрашивают меня: «Что вы подразумеваете под слушанием, что это за отношение?», мой ответ заимствован из американской детской книжки: на мой взгляд, он очень соответствует древнему учению о созерцательной молитве. Он гласит: В лесу жила-была премудрая сова.
Преостро видя все, скупилась на слова;
Скупясь же на слова, все слышала и знала.
Ax, если бы она для нас примером стала! Если это принять за руководство к поведению, вы обнаружите, что чем больше вы молчите и слушаете, тем больше вы слышите, и слышите не только произнесенные слова, но гораздо больше. Так что стоит учить людей, если они призваны к тому, чтобы принимать людей на исповеди или для беседы. Одной доброй воли недостаточно. Как вам кажется, на что в первую очередь должен обращать внимание психотерапевт, чтобы суметь помочь человеку? Вот перед вами человек во всей его многосложности, со всем его хаосом и тем, что вышло из этого хаоса, всем, что ранило этого человека. Что я могу ему сказать? с чего этот человек может начать путь к себе, к тому, чтобы найти себя? Приведу вам пример того, как я сам иногда поступаю, — разумеется, это не универсальный совет и способ. Я предлагаю человеку взять Евангелие и читать его без всякой специально «благочестивой» цели, просто читать. Как правило, при этом обнаруживаются три рода мест, отрывков. Есть места, которые никак нас не трогают. Сказанное никак не относится к нам, эти места нас не ранят, но и не привлекают. Есть другого рода места, на которые мы отзываемся отрицанием, говорим (если мы вполне откровенны): нет, этого я принять не могу, или: это меня превосходит… Но есть и такие места, о которых мы можем сказать словами эммаусских путников: не горело ли в нас сердце наше? (Лк 24:32). И я говорю людям: ищите вот такие места, и когда евангельский отрывок ударит вас в самое сердце, так что вы ощутите свет, радость, раскроетесь душой, — вы обнаружите две вещи: вы обнаружите, что вы с Богом одного духа, одного сердца, что вы знаете о Боге что-то, чего не знали раньше, и что Бог открыл вам что-то о вас самих, чего вы тоже прежде не знали. Запомните это, тут вам открылось что-то очень подлинное о вас самих. Я бы сказал даже, в этом смысле открытие себя самого есть открытие Бога, и открытие Бога есть открытие себя самого. Но это применимо, конечно, не только к Евангелию. Можно предложить для чтения или для обсуждения в беседе очень много самого разного материала. Только надо искать того, что затрагивает самые ваши глубины, о чем можно сказать: вот он я — настоящий, не тот поверхностный человек, каким я чувствую себя обыкновенно, вот то подлинное, что есть во мне. Сейчас в психологии существует очень много различных направлений и школ, все они спорят между собой, каждая отстаивает свою правоту. Я знаю, что в Церкви также существуют разные течения. Что помогает вам находить общий язык между собой? Я помню, кто-то задал вопрос: как бы вы описали православное учение, православие данной конкретной церкви? И ответ был такой: оно подобно ночному небу. В нем — звезды, собранные в созвездия. Глядя на них, можно видеть свой путь на земле. Но важно то, что между созвездиями есть огромные пространства, это пространство имеет такое же важное значение, как сами звезды, потому что если собрать все звезды вместе в одну сверкающую огненную массу, то не останется созвездий, которые освещают наш путь на земле. Должны быть такие проблески, вот в чем все дело. И если вспомнить, что Христос говорит: Я есмь истина (Ин 14:6), это очень важно. Он не говорит, что истина — то или иное, истина — это Личность, что бы это ни значило. Я не пытаюсь объяснить, что это значит. Но истину невозможно вместить в слова, это не учение, это не теория, ничто такое, это отношения с Тем, Кто есть Истина в полном смысл слова, вот и все. И мне кажется (при том что могут быть разногласия, но они не затрагивают самую суть), что в сердцевине этого переживания — наше чувство, что мы едины, заодно. Может быть, в притче, которую вы нам рассказали, Меджнун оттого так странно понимал красоту, что просто сам страдал нарциссизмом? Как вы думаете? Мне кажется, восприятие Лейлы у Меджнуна было не на уровне эстетики. Он полюбил ее, полюбил человека, а не ее черты, и черты осветились ее личностью настолько, что он видел только красоту личности и не замечал уже черты ее внешности. Поэтому он говорил о красоте, а не о внешних чертах. А шах, который не прозревал внутреннюю красоту личности, видел только внешние черты. Я не могу рассуждать о нарциссизме, потому что никогда не думал на эту тему в таком плане, но мне кажется, что в тот момент, когда вы видите человека не просто как предмет рядом с вами, но видите в глубину, черты меняются, потому что изменились взаимоотношения. Древний писатель Мефодий Патарский сказал: пока юноша никого не любит, вокруг него мужчины и женщины. Как только он влюбился, есть невеста — и другие люди… И я думаю, это же самое случается во многих ситуациях, не только при влюбленности, но когда что-то, оказывается, изменилось. Знаете, это как лампа. Смотришь на погасшую лампу и думаешь: ничего в ней нет примечательного. Зажжешь лампу — и она ожила светом, и ты восклицаешь: «Какая красота!». Или окна с витражами, рисунком цветного стекла: сами по себе они совершенно обычные, но стоит лучу света коснуться их — и они становятся сияющим откровением красоты. Вот таким мне представляется рассказ о Меджнуне и Лейле. Ваша оплата и оплата ваших священников, наверное, зависит от пожертвований. Часто ли вам приходится использовать свою власть, чтобы, например, собрать нужную сумму? Оставим в стороне вопрос моей оплаты. Но я, как один из самых бедных членов прихода, имею право спрашивать с более состоятельных людей, чтобы они были щедры по отношению к менее обеспеченным. Сам я ничего с этого не имею, и поэтому мне не стыдно просить. Но это так, в скобках. Что касается власти, мне кажется, следует четко различать — и это очень важное различие — власть и авторитет. Власть заключается в том, что ты можешь навязать другим свою волю. Авторитет — ситуация, когда то, что ты говоришь или делаешь, настолько убедительно, что оно оказывает воздействие. Скажем, Христос: я не вижу в Нем никакой власти. Я не говорю о власти над бесами или Его способности исцелять, это не действия всевластия, но Он никогда не действует с позиции силы. Он говорит — и вы вольны принять то, что Он говорит, или отвергнуть. Если вы принимаете Его слова, вы открываетесь дальше, к большему пониманию, к возрастанию жизни, если отвергаете — вы не осуждаетесь сразу, потому что пока вы живы, вы не застыли, вы меняетесь. Я бы сказал, что в каком-то смысле для Церкви благо, когда она бессильна, когда ее воздействие все обусловлено содержащимся в ней откровением красоты, истины, или смиренного служения, или мужества, и т. п. Церковь гонимая была убедительна, Церковь, обладающая силой, никогда не бывает убедительна. В каком-то смысле я не вправе так выражаться, потому что я живу на Западе. Но это не только мое мнение, я знаю людей в России, которые думают точно так же: проповедь доходчива из ситуации предельной хрупкости, бессилия. Мне кажется, здесь уместно привести место из апостола Павла. Он просил о силе, и Христос ответил ему: довольно тебе благодати Моей, ибо Моя сила в немощи совершается (2 Кор 12:9). Речь не идет о расслабленности, о робости, а о такой открытости, отданности, которая дает место Божию действию. |








 Я
Я