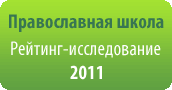Мы не любим до поры размышлять о смерти. Так устроен человек. Анне СОНЬКИНОЙ 28 лет, она растит сына и дочку, а жизнь свою проводит среди неизлечимо больных, умирающих детей. Работа у нее такая — паллиативный педиатр. Мы будем говорить с ней о смерти. С Анной не страшно вести такие разговоры. Она — профессионал.
СПРАВКА
 Анна СОНЬКИНА. В 1987 году окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова. Паллиативный педиатр, медицинский директор Фонда развития паллиативной помощи детям, официально созданного в декабре 2011 года.
Анна СОНЬКИНА. В 1987 году окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова. Паллиативный педиатр, медицинский директор Фонда развития паллиативной помощи детям, официально созданного в декабре 2011 года.
Паллиативная медицина — область здравоохранения, цель которой — облегчить страдания, как физические, так и моральные, пациентов с неизлечимыми заболеваниями и членов их семей. К паллиативной помощи прибегают, когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны.
Дети и дети
— Анна, вы занимаетесь паллиативной помощью детям — но у вас у самой тоже есть дети: как соотносятся друг с другом эти части вашей жизни?
— Они соотносятся так, что мне, как и любой другой маме, сложно совмещать работу и двух маленьких (четырех и семи лет) детей! Если говорить серьезно — мне кажется, моим детям скорее повезло, что я занимаюсь тем, чем занимаюсь. У моей мамы (она волонтер фонда «Подари жизнь») дома иногда живут дети из других городов, которые приехали в Москву на лечение. Мои дочки готовят ребятам подарки ко дню рождения, при этом они знают, что одни дети выздоравливают — а другие уходят. Они уже были в хосписе, я не боюсь брать их с собой на похороны. Мы вместе читаем детские книжки о смерти, обсуждаем…
Мое собственное детство (до восьми лет) прошло в Америке, и я впитала тамошнее отношение к больным людям — и инвалидам, и умирающим от неизлечимой болезни. Само то, что какие-то вещи ты знаешь почти с самого рождения, видишь на улицах, в знакомых семьях (а не сталкиваешься с ними впервые уже взрослым, став врачом, волонтером, пациентом или его родственником), — очень важно. И это отношение я пробую передать своим детям.
— Как вы пришли в детскую паллиативную медицину и почему остались в ней?
— Впервые с паллиативной медициной я встретилась в Первом московском хосписе. Это было стечение обстоятельств: нужно было где-то работать, а с этим местом было связано много знакомых. Когда я там оказалась, это направление мне сразу очень понравилось. Однако я училась на педиатра и хотела работать с детьми. Сначала мне казалось, что паллиативная медицина — это только взрослый хоспис, в идеале — Первый московский. Но затем, отталкиваясь от модели конкретного места, я начала вникать в эту область — читала, смотрела, искала что-то для себя… Поняла, что детский паллиатив — это целый огромный мир; думала выбрать для себя какую-то смежную область, детскую онкологию например. Но в какой-то момент — это действительно был именно момент, когда на душе было тоскливо, — я вдруг подумала: «Ну как же так?! Ведь на самом деле я хочу заниматься именно этим». И тогда уже начала двигаться в этом направлении.
Сначала было совершенно непонятно, где можно реализовывать эту деятельность. Потом наметилась такая возможность, как работа в отделении паллиативного лечения на базе НПЦ «Солнцево» (отделение паллиативного лечения на базе Научно-практического центра медицинской помощи детям в Солнцеве — одно из первых в стране и единственное на сегодняшний день в Москве стационарное медицинское учреждение, оказывающее помощь неизлечимо больным детям. — Ю. П.) Вскоре возникла идея специального фонда — и через время возник и он сам: Фонд развития паллиативной помощи детям. Начинали мы как группа энтузиастов, сидя в подвале фонда «Подари жизнь», — беседовали с Галей Чаликовой, Юлией Чечет (сейчас она президент фонда) и другими коллегами, размышляли, что можно сделать, кроме отделения в Солнцеве…
Мне удалось многому научиться (и в России, и в Англии — стране, известной своим хосписным движением), но какая-то весомая — и по объему оказываемой помощи, и по количеству пациентов — практика, конечно, еще впереди. Сейчас я больше занимаюсь фондом и, к сожалению, гораздо меньше клинической практикой; в идеале хотелось бы как-то сбалансировать — но для этого нужно, чтобы фонд стал на ноги.
— Расскажите, как ему это удается?
— Ниша, которую наш фонд занимает в общем пространстве благотворительности, довольно непростая. Если говорить о его задачах, то они разнообразны: это и фандрайзинг, конечно (деньги всегда нужны), и просветительская деятельность, работа с общественным мнением. Нашу основную миссию мы сформулировали именно как содействие развитию детской паллиативной помощи в России — через образование врачей и медсестер, создание юридической базы, служб социально-психологической помощи семьям и т. д. Например, на сегодняшний день наш основной проект — это выездная паллиативная служба; задача — конечно, помочь конкретным больным и их семьям, но также и разработать действенную модель мобильной помощи на дому, понять, в чем действительно нуждаются пациенты и родственники, в каком объеме и т. п., всю эту информацию записать, проанализировать, распространять дальше. Но такая миссия не очень ясна для потенциальных спонсоров — им понятнее конкретная помощь конкретным подопечным. Это понятно, и мы рассказываем им про наши нужды.
Однако при этом мы стараемся не упускать из виду следующее: если в нашей стране не будут решены системно (на законодательном уровне) некоторые глобальные проблемы, касающиеся паллиативной помощи, то, будь хосписы и выездные команды хоть на каждой улице каждого города, это не изменит существенно жизнь наших пациентов. Поэтому так важно взаимодействовать с государственными структурами, с Минздравом (в новом федеральном законе уже появились положения о паллиативной помощи, сейчас идет работа над подзаконными актами). Не менее важно понемножку менять и отношение к проблеме людей, общества; здесь мы видим себя своего рода ресурсным центром, который мог бы поддерживать все инициативы в области паллиативной медицины. И, конечно, крайне важно учиться опыту «старших товарищей»: мы очень дружим с белорусским детским хосписом, старейшим на территории бывшего СССР, его директор Анна Георгиевна Горчакова — член правления нашего фонда, все наши сотрудники были там на стажировках.
«Очень другое» здравоохранение
— Что для вас самое важное сейчас?
— Просто крик уже стоит в воздухе, что нужен полноценный детский хоспис… И я очень рада, что в конце мая нам удалось вместе с коллегами из фонда помощи хосписам «Вера», фонда «Подари жизнь» и другими провести круглый стол на тему «Детский хоспис — Москва». Это была моя личная идея, которая давно назревала и поддерживалась с разных сторон. Обсуждали, быть ему или не быть, одному или нескольким (профильным по разным заболеваниям), как организовать, для каких детей, какие цели и задачи и т. д.
— В чем принципиальное отличие детского хосписа от отделения хосписной помощи при больнице?
— Здесь могут быть разные ответы. Один ответ такой: если это отделение при больнице, то больница неизбежно накладывает отпечаток на то, что и как там происходит. Невозможно создать обстановку, максимально приближенную к домашней, из окна видны всякие специализированные отделения, связанные с активным лечением, лаборатории, реанимация… Конечно, эта модель тоже имеет свое право на существование, несмотря на свои минусы; однако дело не в минусах модели — дело в минусах (говоря мягко) системы. Поэтому другой ответ будет таким: в том паллиативном подходе к медицине, который мы видим во многих странах и к которому стремимся, по крупному счету, не имеет значения, происходит ли дело в отдельном хосписе или в отделении паллиативного ухода при больнице.
При развитой системе паллиативной помощи пациент — человек, который проживает завершающий этап своей жизни, — имеет право на получение именно той помощи (и именно в том объеме), которую он считает для себя приемлемой. У него (будь это взрослый человек или ребенок) будет возможность отказаться от проведения изнурительных процедур и обследований, от ненужного ему лечения и реанимационных мероприятий… Но это возможно только тогда, когда медицина — вся в целом, как социальный институт — готова принять идею паллиативной помощи. Пока же дело обстоит так: либо пациент подписывает отказ от всякой медицинской помощи (включая обезболивание и прочее симптоматическое лечение), либо по умолчанию подписывается под тем, что становится объектом «причинения добра», и возможности как-то влиять на процесс у него не будет.
— Что является большей сложностью в вашей работе — внешняя сторона (отсутствие законодательной базы, ригидность системы здравоохранения и т. д.) или внутренняя (неготовность самих людей размышлять и разговаривать о смерти)?
— Думаю, и то и другое, и, более того, эти сложности взаимосвязаны. Наше здравоохранение, если сравнивать его с западным, оно такое очень… очень другое. Наша медицина как система — она не для человека. И это, конечно, влияет на то, в какой степени она может (точнее, не может) принять идею паллиативного подхода. Потому что паллиативная медицина, наоборот, максимально центрируется на пациенте и его нуждах: паллиативный доктор действует не для начальника, не для статистики, не для протокола — он действует для больного! В нашей системе у врача нет ответственности перед пациентом, что в корне противоречит самой идее паллиативной медицины. И отсутствие права на достойную смерть есть, по сути, продолжение целого списка бесправностей российских пациентов.
Приведу пример для сравнения. В Соединенных Штатах человеку, у которого какое-то серьезное (угрожающее жизни) заболевание, врач обязан разъяснить его прогноз: если у вас четвертая стадия рака, это означает, что с вами будет происходить то-то и то-то; варианты развития событий такие-то и такие-то; и вы имеете право принять решение касательно того, какой объем медицинской помощи вы хотите, чтобы вам оказывали в той или иной ситуации. Вот бумага, вот ручка. Конечно, в разных штатах все, как всегда, по-разному, но везде присутствует идея, что человек может — имеет право! — не только составить завещание, распорядившись своим имуществом, но и принять какие-то решения относительно завершающего периода жизни — своей жизни. Зафиксировать, что для него приемлемо, а что нет. Этот документ так и называется: «Living will» — «Решение при жизни».
— Находят ли ваши идеи понимание у коллег в профессиональном медицинском сообществе?
— Далеко не все. Еще Гиппократ полагал, что дело врача — лечить, и вовсе не его дело даже подходить к умирающим. С тех пор многое изменилось и в медицине, и в обществе, но и сегодня многие врачи по-прежнему полагают, что дело медицины — «лечить до конца». Один из принципов хосписной помощи: если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. И зададимся вопросом: а что такое конец? Ведь твой собственный конец может оказаться таким: нет дыхания (за твои легкие дышит аппарат), нет сердцебиения (за твое сердце кровь качает машина), ты без сознания, твой организм постепенно разлагается, и… и что?
О страхе и страданиях
— Ваша жизнь проходит среди человеческих страданий, безнадежных страданий. День ото дня вы сталкиваетесь с болью, с умиранием, с горем. Это — путь не для всех. Его невозможно пройти бездумно. В чем для вас высший смысл страдания?
— Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне трудно думать о страдании вообще. Страдание — это то, что проживает человек, и каждый раз это уникальный личный опыт этого человека. Из разных периодов моей жизни я могу вспомнить разные переживания, которые можно было бы назвать страданиями, и смыслы бывали разные. Однажды страдание было дано мне для того, чтобы больше оценить жизнь и благодарить за нее Бога. В какой-то другой раз — чтобы почувствовать отголосок того, как Христос мог, умирая на кресте, молиться за тех, кто его распинал. В следующий раз — чтобы уже нельзя было оставаться прежней и нужно было меняться. Смысл страдания, как и любого глубокого личностного опыта, очень личный, очень индивидуальный, и рождается в каждый момент у каждого человека в его диалоге с самим собой, с близкими и наставниками или с Богом. Мне кажется, я почти не страдала в жизни, но хотела бы помнить, что смысл всегда, всегда есть, как всегда есть надежда.
— Вы помните свою первую встречу со смертью?
— Очень смутно. Это было в детстве, на отпевании какой-то знакомой моих родителей... Я плохо помню тот эпизод, и думаю, это потому, что я тогда почти совсем не испугалась. Первый раз я испугалась смерти, когда уже работала в хосписе. Не буду описывать подробно, но я почувствовала, что умирает человек и что мне нужно подождать какое-то время и только потом пойти к нему. Я пошла через час и обнаружила, что одна из пациенток только что умерла.
«Хорошая смерть»
— Есть ли пример, который вас вдохновляет?
— Часто вспоминаю рассказ одной моей знакомой медсестры, которая уже много лет продвигает идеи паллиативной помощи по всему миру — осуществляет своего рода миссионерскую деятельность. Как-то раз в Индии она выступала перед аудиторией, которую составляли в основном чиновники от медицины и немножко университетских профессоров, далеких от практики. Она показала им фотографию больного, находящегося в реанимации, и сказала: «Я хочу вам рассказать, как вы умрете. Вокруг вас белые стены и белый потолок, вы их видите; при этом окружающий вас медперсонал считает, что вы уже ничего не видите, не слышите и не понимаете, обсуждают вас при вас же. Родных к вам не пускают, вместо них вокруг пикают и бибикают какие-то аппараты; во рту трубка, в горле трубка, все болит, лежите неподвижно, без одежды. Даже крикнуть “помогите” вы не можете, когда все это закончится — неизвестно. Но когда-то оно заканчивается — вместе с вами». Вскоре присутствующие начали рыдать самыми настоящими слезами — и тогда она предложила им внедрить в Индии систему паллиативной помощи.
— Всегда ли этот эмоциональный путь убеждения столь эффективен?
— Иногда это становится доходчивым доводом: вы привыкли, что медицина действует так-то и так-то, — окей, но подумайте, насколько это подходит вам лично? Однако чаще люди вообще не готовы ни думать, ни тем более говорить ни о чем, что касается их собственной будущей смерти, — они предпочитают молчать. И нужно понимать, что за этим молчанием, за этой немотой стоит огромное человеческое страдание — и отдельных людей, и общества в целом. Все это, конечно, очень сильно сказывается на нашей работе.
— Может ли смерть быть хорошей?
— «Хорошая смерть» — да, есть такое понятие. А каждая «плохая смерть» тянет за собой многих живых людей, которые выпадают из общества: они уходят со своих работ, чтобы ухаживать за больным ребенком или взрослым родственником, — и потом не могут туда вернуться; они теряют контакты с друзьями и знакомыми — и потом не могут эти связи восстановить. О распавшихся семьях и говорить не приходится: к сожалению, из-за отсутствия психологической и социальной поддержки случается сплошь и рядом.
— В чем вы находите радость?
— В самых обычных вещах: вкусной еде, красивой музыке, хорошей погоде, близких и любимых людях. В те периоды, когда я вижу много пациентов, мне почему-то удается «оставлять работу на работе». Один очень дорогой мне человек говорит, что я нечувствительная, равнодушная, и поэтому я могу работать с умирающими детьми и забывать о них в нерабочее время. Может, это и правда.
Радость приносит видимый результат твоей работы — главное, просто помнить, для чего ты работаешь, и радоваться тому результату, который возможен в той ситуации, в которой находишься. Мы не видим, как дети выздоравливают, и даже не видим, как у них появляется надежда на более долгую жизнь, но мы видим, как они улыбаются подаркам и общению, как радуются дню без боли, крепкому ночному сну, хорошему аппетиту...
— Как восстанавливаетесь, как справляетесь с тем, что называется профессиональным выгоранием?
— Не могу сказать, что выгораю: мне кажется, от этого во многом спасает профессионализм.
— А что такое в вашей работе «достичь результата»?
— Это очень важный вопрос. Скажем, если вчера у пациента тошнота и рвота случились десять раз за сутки и если мы поставим своей целью, чтобы сегодня или завтра у него не было тошноты и рвоты, — то к этому результату мы можем никогда не прийти. Если же мы направим свои усилия на то, чтобы завтра было девять раз, а послезавтра восемь или даже семь — это будет результат. Удачно проведенный разговор, в конце которого ты чувствуешь, что пациент тебя услышал, когда пришли, наконец, к какому-то правильному решению, когда ребенок тебе говорит, что ему стало лучше, когда родители расслаблены, — это успех. Вообще говоря, наша работа в очень большой мере «разговорная», а не только и не столько собственно медицинская…
Иногда, конечно, выходишь из квартиры, где несколько детей-инвалидов и одинокая мама, сама больная раком, все это в тесноте съемной комнатушки, без российского гражданства, без возможности обратиться за помощью… и думаешь: «Боже мой, ну что я тут могу сделать?!»
— И как тут быть?
— Работать. В нашей области так: делаем то, что можем. Болезнь, неизлечимая болезнь, страх смерти, уход человека, горе родственников — все это… как бы сказать… это естественно. Это некая данность, которая есть в мире; она не связана с насилием, в ней никто не виноват, она была и будет всегда. Такая вот очень особая часть жизни. И мы стараемся помочь людям достойно прожить этот этап.
Текст: Юлия ПУЗЫРЕЙ
Версия для печати
Тэги:
Личность
Общество
Дети
Смерть
Болезнь








 Анна СОНЬКИНА. В 1987 году окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова. Паллиативный педиатр, медицинский директор Фонда развития паллиативной помощи детям, официально созданного в декабре 2011 года.
Анна СОНЬКИНА. В 1987 году окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова. Паллиативный педиатр, медицинский директор Фонда развития паллиативной помощи детям, официально созданного в декабре 2011 года.